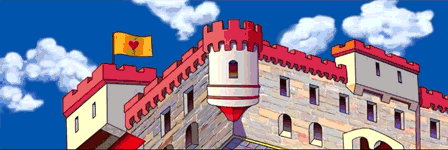Продолжение публикации: © Д.И. Ермолович. «Не платил ни за любовь, ни за славу».
Из воспоминаний и рассказов Я.И. Рецкера
Ниже следуют фрагменты из записанных мною на магнитофон устных рассказов Якова Иосифовича Рецкера. Материал подвергнут некоторой перекомпоновке, в целях тематического единства фрагментов, и незначительной редакторской правке, но так, чтобы сохранить атмосферу живой беседы. Фрагментам я дал подзаголовки, а некоторые места снабдил пояснениями (они набраны курсивом и заключены в квадратные скобки). Однако я не выверял записи на предмет точности дат, имен и фактов— читателю не следует рассматривать воспоминания в домашнем кругу, за чашкой чая, о событиях более чем 60-летней (на тот момент) давности как историографический источник. Я ставил задачу донести до читателя не описание событий, а, насколько возможно, представление о самом рассказчике. Хочется надеяться, что читатель услышит в них хотя бы слабый отзвук живого голоса этого уникального человека. Записи были просмотрены вдовой Я.И. Рецкера — Нежданой Даниловной Янович и публикуются с ее согласия.
Д.И. Ермолович
[Крах музыкальной карьеры]
Трудно сказать теперь, что послужило главной причиной моего поступления в Михайловское артиллерийское училище — скорее всего, крах моей музыкальной карьеры. В конце апреля, когда я готовил к выпуску 1-й концерт Шопена (ми минор), в консерватории этот же концерт играла Юлия Френкель, вернувшаяся из Германии, где она занималась с Есиповой. Мой профессор Владимир Николаевич Дроздов, послушав Юлю, спешно заменил мне Шопена первым до-мажорным концертом Бетховена, который не вдохновлял меня. При прослушивании 1-й части А.К. Глазунов сказал мне: «Музыкальность у вас отличная, но вот пианизма я не замечаю. Не перейти ли вам на композиторский или дирижерский факультет?» Я забрал свои бумаги и уехал в Таганрог.
 |
| Гимназическая фотография, сделанная в Таганроге около 1915 или 1916 г. (Я.И. Рецкер — слева) Фото предоставила дочь Я.И. Рецкера Анна Яковлевна, ныне живущая в США |
[В Михайловском артиллерийском училище]
В училище всё началось с переклички и распределения всего 11-го ускоренного выпуска (около 50 человек) по трем батареям. Я попал в 3-е отделение 1-й батареи. В нашу 1-ю батарею Михайловского артиллерийского брали тех, кто умеет держаться в седле.
День начинался в 6.30 утра гимнастикой на турнике, параллелях и прыжках через «кобылу» и «козла». Зал был прекрасно оборудован, и мне не стоило большого труда привыкнуть к шишкам и синякам после первых неудачных прыжков. В гимнастическом зале были тюфяки, а в манеже — опилки. Хотя в Питере уже чувствовались продовольственные ограничения, в училище кормили вкусно, но не очень обильно. Помню, получив первое увольнение в город, я простоял час в очереди у магазина Крафт за шоколадом. Удивительно вкусны были сочные котлеты, и дежурство на кухне притягивало возможностью съесть лишнюю котлету под видом пробы.
В актовом зале стоял Бехштейновский рояль, и очень скоро в моем отделении выделилась группа музицирующих по вечерам. Это были: Скрябин (племянник композитора), светлейший князь Дадиани-Дедешкилиани, сын наказного атамана Войска Донского фон Граббе и я. Дадиани прекрасно импровизировал и отличался большей музыкальностью, чем Скрябин и особенно фон Граббе. Я играл больше всех: повторял по горячим следам свой консерваторский репертуар.
[Чем больше всего гордился Яков Иосифович и как он защищал свою честь]
Из винтовки я не умел стрелять, потому что артиллеристам выдавали только наганы (пистолеты) и шашки. Ну, а когда я стал фейерверкером, я уже получил коня, его звали Омск. Дали мне по воле вахмистра такого самого трясучего, высокого на длинных ногах. Вообще это было послушное и очень выносливое гнедое, как и все кони в батарее, животное. Каждая батарея имела обязательно своего цвета лошадей. В 1-й батарее все были гнедые, во 2-й батарее были серые или с яблоками, а моя была темно-гнедая. Ежедневная процедура мытья мылом и водой со скребком вскоре приучила его ко мне, но езда на нем в манеже и позже на маневрах стоила мне немало шишек и мук.
Высокий рост и длинные ноги Омска позволяли ему легко брать препятствия при рубке глиняной бабы. В момент прыжка нужно было сделать вращательное движение шашкой вокруг головы и снять верхний слой глины. Один раз я упал с коня после команды: «На коня становись!». Упал неудачно, зацепившись левой ногой за стремя, и конь протащил меня по земле, содрав со спины кожу.
Всегда присутствовавший на занятиях в манеже наш комбат примерно через 20 дней после начала вольтижировки сказал: «Юнкер Рецкер, надеть стремена и мундштучный повод!». Я был первым в батарее, удостоившимся такой чести, и был, пожалуй, даже более горд этим, чем когда в 1953 году я получил звание кандидата наук.
Мне легко было даже делать ножницы и на легком галопе с левой ноги вскакивать в седло. Сказалась привычка к езде на казачьем, английском и кавалерийском седле, начиная с семи лет. Картину занятий ездой и еще более вольтижировкой в манеже сильно портил несчастный Шатхан. Когда он, как куль с картофелем, свалился с коня, юнкер Макаревич закричал: «Браво, Нахамкес!», хотя сам не бог весть как держался в седле. Антисемитские выходки Макаревича метили вообще во всех евреев.
Не помню, по какому поводу, но я в присутствии товарищей вызвал Макаревича на поединок, пригрозив дать ему пощечину. Дадиани и Граббе были моими секундантами. Был бой на кулаках без перчаток. Владея апперкотом с 1911 года, я через две минуты сбил его с ног, и когда мои секунданты объяснили, что произошло, штабс-капитан Масич оставил дело без последствий. (При первом же знакомстве с батареей комбат Масич предостерег против любых черносотенных выходок). Не помню, чтобы после этого мне приходилось слышать антисемитские выпады. Особенно после маневров, где два первые места в батарее по стрельбе завоевали два еврея: Шапиро (намного опередивший остальных по меткости попадания) и я.
[Летние сборы 1917 года]
Из теоретических предметов, которые нам преподавали, я помню только курс артиллерии и высшей математики, вернее, теории вероятностей. Эта теория тесно связана с пристрелкой орудия. читал ее профессор-генерал Глазенап. Интересна была и съемка местности, но на практике — во время лагерных сборов, когда мы выходили попарно с планшетом и рейкой. Летом 1917 года мы были в лагерях почти два месяца: август и сентябрь — в Красном селе.
В училище существовала 12-балльная система оценок. Когда мне удалось получить высший балл — 11 по артиллерии, я получил увольнение из Красного Села в одно из воскресений сентября. Стояла дождливая холодная погода. Возвращаясь к 10 часам — вечерней перекличке — из Питера, я в последнюю минуту вскочил на ступеньки заднего вагона отходящего поезда, но дверь оказалась на запоре. Только на крутом повороте состава я увидел, что попал не в дачный, а в скорый поезд, который в Красном Селе не останавливается. Сколько я ни стучал кулаком свободной руки и эфесом шашки в дверь, никто мне ее не открыл. Я оцепенел от холода примерно за полчаса езды на ступеньке, когда увидел вдали наши палатки. К счастью, поезд замедлил ход на крутом повороте, и я спрыгнул в мокрую траву и отделался испугом и легким ушибом.
Незадолго до 20 августа, чуть ли не в день выступления в лагеря (мне помнится, что все происходило на плацу училища) генерал Карачан построил все три батареи и сказал, что желающие пойти в поход на защиту Временного правительства навстречу Дикой дивизии, наступающей на Петроград для установления военной диктатуры под командованием генерала Красного, должны выйти из строя вперед. Все третье отделение моей 1-й батареи вышло вперед, за исключением Виктора Перцова, который заявил, что он как большевик защищать Временное правительство не намерен. Из рядов раздалось «трус!», но он не поехал. Почти сутки я не покидал седла, набив себе кровавые шишки, без горячей пищи и под холодным дождем. На другое утро нас спешили у Средней Рогатки. Разведка прикрывавшего нас пехотного полка донесла, что «дикие» чеченцы побратались с пехотой и отказались наступать на Петроград. После этого похода я на сутки попал в лазарет к доктору Чистовичу, тоже уроженцу Таганрога.
[Политика вторгается в жизнь]
Я чуждался политики и не читал газет, Отвращение к политике мне внушили два зрелища: одно в цирке Чинизелли, другое в Таврическом дворце. Митинг в цирке произвел на меня гнуснейшее впечатление наглым поведением большинства выступавших. В Таврическом дворце выступали делегаты английских профсоюзов в поддержку дальнейшего участия России в войне, но их речи покрывались ревом большевистских оппонентов — вернее, заглушались.
Уже само поведение большевиков вызывало во мне негодование, не говоря об их лозунгах. Слишком хорошо я знал историю Французской революции, чтобы не предвидеть, что у нас гражданская война унесет не 10—15 тысяч жертв, а в десять или сто раз больше, и в том числе цвет русской интеллигенции, и откроет путь грядущему хаму.
Но от политики в 1917 году уйти было нельзя. Как-то у меня, помню, страшно разболелся зуб. Хотя у нас при училище был врач, но зубного врача не было. Меня отпустили к зубному врачу — в моем отделении был сын зубного врача Фрейденштейн. Помню, отец Фрейденштейна жил на Литейном проспекте, я приехал к нему вечером после занятий.
А в Михайловском артиллерийском в первой батарее был очень красивый и тоже совершенно обрусевший еврей — Юрий Каннегизер. Ему только должно было исполниться девятнадцать лет, он очень рано кончил гимназию и тоже хорошо ездил верхом. И я застал у Фрейденштейна Каннегизера. С большим негодованием он говорил о большевиках, которые рвутся к власти, не набрав более 17 процентов голосов на выборах в Учредительное Собрание, тогда как эсеры и меньшевики получили около половины голосов, в том числе и в армии, которая тоже голосовала. (Выборы были примерно в 20-х числах сентября всего за месяц-полтора до Октябрьской революции). Большевистских вожаков пропустил в запломбированном вагоне через Германию Вильгельм II, чтобы они разложили русскую армию и дали немцам взять Россию голыми руками.
Каннегизер говорил и о том, что на Выборгской стороне агенты большевиков избивают газетчиков, продающих любые газеты, кроме «Правды», — даже «Нашу жизнь» Горького, которая против большевиков. Он говорил, что это делают молодцы с заводов и подосланные; что сам он эсер, но не может купить газету, которая объединяет эсеров и так называемых трудовиков (Керенский как раз принадлежал не к эсерам, а к трудовикам), что ему приходится покупать эту газету только в центре, когда он получает отпуск.
Каннегизер страшно возмущался, что 2 июля устроили выступление под лозунгом «Долой министров-капиталистов, вся власть Советам!». Тогда действительно была свалка, я был у тётки (это было в воскресенье) и видел из окна, как казаки с нагайками разгоняли толпу, а из толпы раздались выстрелы (у казаков, по-моему, не было, кроме шашек и нагаек, никакого огнестрельного оружия). Одна пуля попала к нам в окно на третьем этаже и застряла в стене.
[Кто убил Урицкого]
Каннегизер знал все мелочи о политике, а я вообще понятия не имел, какая разница между большевиками, меньшевиками, эсерами… Газет я не читал. По вечерам со Скрябиным играл иногда в четыре руки, иногда он отдельно, я отдельно…
Каннегизер несколько презрительно на меня посмотрел, когда я спросил: «А какая, собственно, разница между эсерами и меньшевиками? Вот я понимаю, что большевики хотят опрокинуть правительство. Ну, и сейчас вот выборы в Государственную думу…».
Он говорит: «За кого вы будете голосовать?» Я говорю: «Я не знаю». — «Голосуйте за эсеров, голосуйте за тех, кто является прямыми наследниками народовольцев и людей, которые проливали кровь в то время, как Ленин и большевики сидели за границей и писали разные мудрёные статьи. В конце концов, прямыми преемниками народовольцев являются эсеры». Он даже мне назвал номер их списка.
В конце концов я голосовал за трудовиков, потому что там были портреты этих людей, я помню — мне понравились лица. И потом, я видел, как Керенский встречал Кропоткина в апреле на Финляндском вокзале.
Когда, уже в 1918 году, Урицкий расстрелял первую партию арестованных эсеров — очевидно, правых эсеров — и кое-кого из меньшевиков, этот Каннегизер на велосипеде приехал на Миллионную в штаб, где заседало чека, проник в кабинет к Урицкому и в упор его застрелил.
Интересно то, что он сумел выбежать и сесть на велосипед и помчаться к Зимней канавке — туда, где Пушкинский дом. Там для него была приготовлена тайная квартира. Если б он успел еще проехать каких-нибудь десять шагов… Но он услышал за собой стук мотоциклиста, бросил велосипед, побежал во двор по пожарной лестнице, взобрался куда-то на чердак, с чердака на крышу. Улица Миллионная узкая. Напротив, когда окружили дом, какая-то горничная сказала, что она видит человека на крыше. Он не смог перепрыгнуть на следующую крышу — там, очевидно, был большой промежуток. По-моему, я читал уже в Константинополе подробности о том, как его схватили, как его пытали, как его хотели заставить, чтоб он выдал сообщников, хотя действовал он в одиночку. Короче говоря, после Урицкого этим делом уже занимался Дзержинский, и его или расстреляли, или просто замучили.
[Воскресенье 22 октября 1917 года]
В то воскресенье наша 1-я батарея продолжала уже не менее двух недель нести охрану Зимнего дворца в Екатерининских покоях. Где-то совсем рядом еще шли заседания Временного правительства. Моя койка стояла возле койки Виктора Осиповича Перцева, которые 20 августа отказался выступить против генерала Краснова в защиту Временного правительства, заявив, что он — за власть Советов. Меня он невзлюбил за мой политический индифферентизм. На его вопрос, за какую партию я буду голосовать в Учредительное собрание, я ответил: «За партию Рахманинова и Скрябина». Его особенно раздражало то, что по вечерам я часто музицировал со Скрябиным и Дадиани.
Утром, перед строевыми занятиями, командир отделения штабс-капитан Масич прочитал список дежурных по Главному штабу. Моя очередь была от 12 ночи до трех. В 12 часов я рапортовал о прибытии на дежурство начальнику петроградского гарнизона полковнику Полковникову и стал в дверях его кабинета с шашкой наголо. У полковника был совершенно голый череп замысловатой формы: кажется, такие черепа называются долихоцефалами (продолговатыми).
Почти сразу после того, как я заступил на дежурство, его адъютант доложил о приходе делегаций от полков гарнизона. Полковник приказал впускать по одному представителю от каждого полка. Первым появился представитель Преображенского гвардейского полка со значком музыкантской команды на погонах. Он рапортовал: «Господин полковник, защищать Временное правительство не будем. Вся власть Советам!».
За ним появился выборный представитель лейб-гвардии Измайловского полка, тоже из музыкантской команды. Он повторил дословно заявление предыдущего оратора. За ним пошел посланец от Семеновского (или какого-то) пехотного полка со странным названием вроде «пиротехнический». Последнего полковник принял, даже не вставая. Несмотря на холод, он вытирал со лба пот. В час ночи, если не позже, раздался телефонный звонок: князь Голицын требовал прислать отряд для разгона толпы, громившей склад оружия на Петроградской стороне. Конечно, никого послать было нельзя. Телефонные звонки раздавались часто, и по лицу полковника я понимал, что вести неутешительные. Падение Временного правительства состоялось, по существу, уже ночью 23 октября.
Утром был получен приказ начальника артиллерии генерала Карачана: обе наши батареи были выведены из Зимнего дворца и вернулись в Михайловское училище.