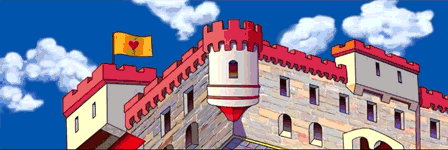Продолжение публикации: © Д.И. Ермолович. «Не платил ни за любовь, ни за славу».
<< К началу публикации
<< К началу воспоминаний Я.И. Рецкера
[О назначении, полученном после Октябрьской революции]
Мне исполнилось 20 лет как раз через три дня после Октябрьской революции. По старому стилю 25 октября в среду было свергнуто Временное правительство, а в воскресенье 29-го мне исполнилось 20 лет.
В городской думе нам выдавали офицерские свидетельства. У меня было заказано полное обмундирование у самого лучшего портного — и сапоги, и бекеша. Помню, мама мне прислала дюжину егерского белья — такое очень тонкое немецкое шерстяное белье, потому что это было уже начало зимы, хотя погода была еще довольно теплая. А я получил назначение в 69-й мортирный дивизион, которым командовал генерал-лейтенант Михаил Михайлович Челюскин, который знал меня лично, потому что бывал у моей тетки. Я имел персональное назначение.
Я получил его примерно через две недели после революции, когда я сидел почти безвыходно у тетки на Невском, 23, но мне дали знать, что производство в офицеры мы получаем в Городской думе. Ну, вы знаете, дума находится на Исаакиевской площади, угловое здание…
Когда нам выдали это удостоверение, то сказали, что прежде, чем отправляться в часть, надо в главном штабе узнать, где находится эта часть. Я в штатском пошел в главный штаб, где сидел какой-то большевик, который мне сказал, что часть эта на румынском фронте, но что с румынского фронта уже солдаты бегут. «Никакой батареи вы там не найдете».
В городской думе, где сидели бывшие члены Государственной думы и избранные в Учредительное собрание (там же большинство было не большевиков), мне выдали такое удостоверение: «Прапорщик такой-то направляется в распоряжение главнокомандующего вооруженными силами на юге России», то есть Деникина...
Я сказал, что я хочу отправиться домой в Таганрог. А в это время Таганрог уже был занят Деникиным. Мне сказали так: «Когда вы доедете до Украины, бумажки этой не показывайте. На Украине сейчас гетман Скоропадский».
Когда я приехал в Таганрог, то порвал эту бумажку, конечно, потому что я никак в Белой армии служить не собирался.
[Почему Я.И. Рецкер не собирался служить в Белой армии]
По дороге, когда я ехал в Таганрог, у меня началась испанка. Это было уже примерно за Курском. Там в это время была неразбериха. Еще советская власть не была установлена, но между Белгородом и Курском уже не знали, какая власть.
Я лежал в вагоне 3-его или 4-го класса на самой верхней полке, где вещи кладут, в бреду и слышал, как вошел какой-то офицер и спросил: «Жидов нет тут?» Это уже были белые.
Когда эти офицеры вошли, они вот что делали: хватали евреев, на полном ходу выбрасывали их, а тех, кто сопротивлялся, убивали — большей частью закалывали, чтобы не тратить патроны. У нас в купе не было евреев, были все русские, которые про меня сказали: «Слушайте, какой же он еврей, когда он офицер?». Меня обыскали, достали документы и оставили в покое. А из соседнего купе вытащили какого-то еврея с бородой и его дочь… Ну, они, во-первых, изнасиловали дочь, а потом обоих убили. Так что я понял вообще, что такое белые, еще в декабре 1917 года.
[Едва не попал под расстрел в Таганроге]
[Таганрог был родиной Я.И. Рецкера. Там жил его отец — богатый коммерсант, компаньоном которого был Григорий Самойлович Фельдман, отец актрисы Фаины Раневской. С самой Фаиной Григорьевной Яков Иосифович был также хорошо знаком и поддерживал с ней отношения в Москве.]
Я приехал в Таганрог. Ну, революция начинается с того, что разбивают замки у тюрем и выпускают всех уголовников. Так что первое, что сделали еще в феврале 1917 года мой отец и мой beau frère, женатый на моей сестре, Бесчинский, — купили девятизарядные бельгийские револьверы. Они были и у меня, и я сидел и, как Пушкин, стрелял в форточку с дивана. Довольно большая комната, и вот старался… правда, из винчестера мы учились стрелять в бутылку, положенную вот так, чтобы пробить дно, и я это делал с 15 шагов.
[Кто-то донес новым властям, что из дома якобы стреляют в толпу, и к Якову Иосифовичу явились солдаты во главе с красным комиссаром, арестовали его и повели на расстрел.]
Моя сестра Женя все время бежала за комиссаром, который шел впереди, бросалась к нему в ноги и говорила, что я вовсе не мог стрелять в толпу, потому что у меня нет никакого оружия, кроме шашки, которая висела над кроватью. И просила, чтобы меня повели к коменданту города.
А комендантом города был Зайцев, которого когда-то, в 1905 году, укрывал мой отец. И он меня узнал, велел тому комиссару уйти, а мне говорит: «Бери билет в Харьков и немедленно уезжай». Я прямо оттуда пошел на вокзал и уехал в Харьков.
[Власти в Таганроге сменяют друг друга]
[Через какое-то время Яков Иосифович снова вернулся в Таганрог.]. В Таганроге было пехотное училище, где было 240 человек. Они давали присягу Временному правительству и считали, что должны защищать его до последней капли крови. В декабре юнкера из этого училища засели на спирто-водочном заводе в Таганроге. У них было, кажется, два пулемета или даже один. А три тысячи солдат осаждали их несколько дней, причем когда некоторые из юнкеров поняли, что рано или поздно они погибнут, то они стали выбегать и прятаться в домах, и хотя наша Александровская улица, где мы жили, по крайней мере на две версты от этого завода, пули все время летали.
После того, как перебили всех этих юнкеров, большевики продержались недолго. 1 мая 1918 года в Таганрог вошли немецкие войска. После Брестского договора они заняли всю Украину, Донбасс и часть Северного Кавказа. Минеральные Воды, Кисловодск — все было занято немцами. По-моему, они вошли в город без выстрела, потому что большевистские части все были оттянуты куда-то — может быть, к Царицыну. В то время уже, по-моему, началась Царицынская кампания.
Ну, а немцы первым делом открыли большой книжный магазин, где были книги на английском, французском, немецком языках. Может быть, были расстрелы большевиков, но все это было как будто бы совершенно без выстрелов. Они никого не трогали — во всяком случае, из буржуазии. Помню такой случай. У нас была очень смазливая горничная, и какой-то немецкий солдат за ней увивался. Она не могла понять, что он ей говорит по-немецки. Так она ему кричала всё: «Громче, громче!» А он ей что-то такое любезное говорил.
В том же 1918 году, когда в ноябре произошла революция в Германии, немецкие войска ушли. На смену им пришел Деникин. Его ординарцы ездили по городу, увидели наш дом и сказали: «В 24 часа очистить. Здесь будет штаб Деникина». Ну, у отца был другой дом, даже два дома. И мы переехали с Александровской улицы на Николаевскую, там был флигель и двухэтажный дом.
[1918 год в Ростове]
Потом была такая опасность. В декабре 1918 года белые объявили призыв, и все чуть ли не с 18-летнего возраста до, кажется, 40 лет должны были попасть в Белую армию. Как этого избежать? Отец вспомнил, что он в Петербурге познакомился с действительным тайным советником, особой 3-го класса — Артуром Федоровичем Вейсом, который был шталмейстером при царском дворе.
И вот отец узнал, что Артур Федорович находится в Ростове, и поехал в Ростов к дядьке, а дядька был миллионер и вообще с большими связями: у него было отделение конторы даже в Харбине. Он имел монополию на продажу табачных изделий двух самых крупных фабрик, одной из них Осмолова. (Осмолов, кроме того, был большим меценатом. Лучший театр в Харькове — драматический — был Осмоловский).
И вот я помню, как сейчас, отец вызывает меня в Ростов. Я приезжаю, и у дядьки сидит этот Артур Федорович Вейс. Он мне говорит: «Вам, конечно, не поздоровится в Белой армии, там очень не любят евреев. Но я вам устрою: я дам вам бумагу, что вы прикомандированы ко мне — вы владеете английским языком — в качестве переводчика. А мы ждем прибытия в Новороссийск английской медпомощи. Но на всякий случай держитесь как можно дальше от всякого контроля, а уж если понадобится, покажете эту бумагу, что вы прикомандированы ко мне, а я являюсь представителем Деникина по связи с иностранцами».
[Первая работа переводчиком]
Я прожил все лето 1918 года в Краснодаре. И только один раз меня вызвали в Новороссийск: прибыл английский транспорт. На этом транспорте был полковник Биддл — Colonel Biddle, Assistant Director, Medical Service. Он спросил меня, офицер я или нет. Я сказал, что нет, я еще — как это называется у них — superintendent, или «подофицер». Знаете, курица не птица, а прапорщик — не офицер. Он был удивлен, что в 21 год я еще не полный офицер и что я не воюю. Но я ему сказал, что у меня плоскостопие, и вообще я имел белый билет. И я в качестве переводчика принимал перевязочные материалы, шприцы, все, что нужно для раненых. Причем мои родители так за меня волновались, что отец, и мать, и сестра Женя, которая была на четыре года моложе меня, — все приехали в Новороссийск.
В это время как раз подошел наш [то есть принадлежавший компании отца] пароход. У меня уже был роман с Людмилой, и отец и мать, которым она очень понравилась — ей было тогда 19 лет, — сказали: «Ничего хорошего ждать нельзя. Белые, конечно, будут разбиты, потому что у них офицерские полки, и они сражаются сто человек против тысячи, а то и против нескольких тысяч. Садитесь на пароход и езжайте за границу. Пароход уйдет в Англию». Но, конечно, я на это не решился. Я не собирался жениться в 21 год.
Кстати, в Краснодаре выступал Вертинский и оркестр Кусевицкого — тот самый оркестр, который потом целиком переехал в Америку. Там Рахманинов выступал, Яша Хейфиц, Горовиц и так далее. В Советской музыкальной энциклопедии большая статья о Сергее Кусевицком. В Краснодаре его оркестр числился как оркестр командующего вооруженными силами на юге России, то есть Деникина. Знаете, надо было марку, марку иметь.
[Арест отца Я.И. Рецкера и отца Ф.Г. Раневской; переезд в Ростов]
Когда мы приехали в Таганрог, папу и его компаньона Григория Самойловича Фельдмана, отца Раневской, немедленно арестовали большевики. Посадили их в товарный вагон, и представитель ревкома явился к маме и сказал: «Мы их освободим, но только нам нужно сто тысяч. Вот вам срок — 24 часа». Денег не было, но у мамы были, кажется, какие-то бриллианты. В общем, достали по 50 тысяч мы и семья Фельдмана. Помню, как я и мама поехали на вокзал. На запасных путях стоял этот вагон. Отец и Фельдман сидели, хохотали. Стоял один часовой. Их никто не трогал. И, в общем, их освободили.
Но поскольку отец знал, что это только первый раз, что это будет повторяться неоднократно — решили уехать в Ростов. (У дядьки там был дом). В это время началась эпидемия сыпного тифа. А отец для того, чтобы перевезти в Ростов какие-то вещички, не смог найти для багажа другой кареты, кроме санитарной. В этой санитарной карете его и укусила вошь — он заболел тифом.
А у меня было что-то вроде рецидива той же самой испанки. Кажется, два или три дня температура была выше сорока, и я все время бредил. В то время в Ростове были крупные врачи: профессор Завадский, которого вызвали к отцу, и профессор Игнатовский, которого вызвали ко мне. Игнатовский выслушал меня и сказал: «Никаких инъекций. Такое сердце выдержит какую угодно температуру. Я отвечаю за него».
[Происшествие с физиологическим раствором и кончина отца]
В Ростове в то время были еще белые, а в Батайске уже были красные. Значит, вот Ростов, Дон — а тут Батайск. И из Батайска обстреливали. Ядра попадали в дома, большей частью частные.
Когда я оправился от испанки, отец умирал. Это было 24 января 1920 года. Как раз за день до этого части дивизии Жлобы вступили в Ростов. Я помню, Женя (сестра) и ее муж поехали доставать для него физиологический раствор. Это было очень трудно. В то время на улицах еще чуть ли не шла стрельба. Ну, они достали извозчика, поехали в какую-то аптеку, достали бутыль с физиологическим раствором. Но когда они ее везли, их остановили красноармейцы. И когда они увидели бутыль — большую, с прозрачной жидкостью, то решили, что это водка. Не говоря ни слова, они разбили горлышко, ну, а когда отхлебнули — поняли, что это не то, что им нужно. Но раствор уже нельзя было использовать. И больше не было такого раствора.
Я помню, около пяти часов утра меня разбудили и сказали, что отец безнадёжен. Мы пошли к нему и стояли у его кровати на коленях. Его чуть ли не последние слова были: «Лишь бы не умереть». Ему исполнилось за день до этого 47 лет.
[Почему Я.И. Рецкер пошел служить в Красную армию]
В 20-м году, через две или три недели после того, как я поправился, я решил, что, поскольку меня только один раз вели под расстрел красные, а белые хотели убить два раза, я пойду служить в Красную армию. Я пришел в красноармейский штаб — это был Заамурский конный полк. Попросил, чтобы меня пустили к командиру. Мне говорят, что командира нет, а есть комиссар. Помню фамилию его: Антизерский.
Я вошел к нему и говорю, что я окончил Михайловское артиллерийское и хочу в артиллерию. Он говорит: нет. Я ему дал свидетельство об окончании Михайловского артиллерийского, которое я хранил в сапоге. Он взял его, порвал, говорит: «Об этом забудь. Пойдешь рядовым в пехоту». Потом спохватился: «Хорошо ездишь? А ну, вахмистр, проверь его!». Ну, вахмистр меня повел (это было за кладбищем, почти в степи), посадил на коня и на корде заставил меня делать ножницы (вот так пересесть). Потом командовал, я помню, так смешно: «Га-ло-пэм! С левой ноги!» И я должен был на ходу прыгнуть на лошадь. Первый раз я перепрыгнул через нее, а второй раз все-таки сел.
Да, еще была команда: «Рубку, рубку!» Рубка была такая: надо было через какой-то плетень перепрыгнуть и срубить деревцо, которое там стояло. Я вспомнил то, чему нас как раз учили в Михайловском, — и срубил. Короче говоря, я выдержал экзамен и был зачислен в 3-й эскадрон. Причем докладывать надо было так: «Товарищ командир! Молодой солдат Рецкер явился!». Не было другого, понимаете, нельзя было сказать «новобранец» или что-нибудь, а — «молодой солдат». Потом переименовали нас в бойцов.
[Тиф и ящур]
Через две или три недели (причем эти недели я жил в казарме) я там заразился тифом. Ну, и меня отправили в эвакопункт №90 13-й армии, а тем временем весь этот Заамурский конный влился в дивизию Жлобы и был направлен куда-то между Воронежем и Тамбовом. В это время генерал Мамонтов совершил далекий рейд, в результате которого 13-я армия была целиком истреблена. Она была окружена и попала, можно сказать, в мешок. (Мне уже потом рассказывали).
А в апреле 1921 года с моря высадились врангелевцы. Это была кучка, может быть, в 200—300 офицеров, однако, не разобравшись (это было ночью), весь таганрогский гарнизон бежал, а эвакопункт на 1200 мест эвакуировался. Эвакуация была такая, что не успели всех погрузить. Тяжелораненых оставили там…
Нас погрузили в теплушки, думали, что удастся доехать до Ростова, где были красные… А по дороге, у станции Морская, оказался разобранный железнодорожный путь. Ночью белые казаки окружили вагоны и стреляли. Нам был приказ: ложись! Была солома, мы вот так лежали, уткнувшись. У меня была не фуражка, а папаха… это еще был апрель и довольно холодный. Она была прострелена.
Там все-таки были, кажется, два пулемета, и, в общем, отогнали белых конников. У них был небольшой отряд — вероятно, самодеятельность казачья. Но они поубивали лошадей. Я помню, это было ужасное переживание: хотя задний вагон был чуть ли не четвертым от нас, мы слышали, как несчастные умирающие лошади орут — уже не ржут, а издают какой-то невероятный крик.
Но этим не кончилось дело. Утром мы в станице Морской пошли искать какой-нибудь еды. Увидели хороший такой хутор, вошли. Мужчин не было, была только хозяйка. Она вынесла нам крынку молока. Мы были страшно голодные — мы сутки ничего не ели, не пили. Все выпили этого молока. На другой день у всех, кто пил это молоко, был ящур. Ужасная болезнь. Вся слизистая оболочка покрывается язвами. Сильный жар.
Нас повернули обратно в Таганрог, потому что этих офицеров или побросали в море, или поубивали. Это была совершенно безумная вылазка. Они не могли захватить главных сил, которые стояли довольно далеко от моря, они ворвались только в ближайшие приморские кварталы… Правда, были грабежи, насилия… У меня сложилось такое убеждение все-таки, что никакой другой власти, кроме советской, быть не может.
И когда я уже выздоровел от ящура, я остался работать на эвакопункте в качестве статистика, или, как мне написали в воинском билете, «статиста» эвакопункта. При переосвидетельствовании врачи страшно хохотали, когда увидели, что мне написали, что я статист. Но выдали мне новый воинский билет, в котором было написано, что с января 20-го по июль 21-го я служил в Красной армии, демобилизован как студент.
[Учеба реферированию у Бухарина]
[После демобилизации из Красной армии Яков Иосифович поступил на юридический факультет Харьковского университета, откуда ушел со 2-го курса. Причиной его ухода стала тогдашняя практика «правосудия», с которой он не мог примириться, — он стал свидетелем того, как по судебному приговору преступника освободили от наказания «по причине пролетарского происхождения». Высшее образование Я.И. Рецкер завершил позже, окончив Литературный институт им. Горького.
А в 20-х годах Яков Иосифович работал переводчиком, и на одном из поворотов его судьбы он оказался референтом у Николая Ивановича Бухарина.]
Бухарин мне поручил реферировать материалы по трестам и синдикатам — вообще всё, что было о монополиях в английских, американских журналах… Я считался референтом, но я не умел еще писать рефераты, и он меня научил. Научил очень оригинально. Сказал: «Возьмите 3-й том Маркса—Энгельса: там есть на 20 страницах реферат воспоминаний бывшего монтаньяра — “Борьба монтаньяров с жирондистами” Левассёра. Возьмите книгу Левассёра, прочитайте и вы увидите, что с ней сделал Маркс. И придите, скажите мне, почему это называется не конспектом, а рефератом».
Я прочитал и наткнулся на фразу Левассёра, где он пишет, что это был, конечно, террор с его, так сказать, эксцессами, что «многие из нас были против, но мы чувствовали, что это неизбежно». Вместо этого Маркс написал: «Если бы революционный террор 1893—94 гг. был остановлен, то революция была бы задушена». Это было оправдание революционного террора, и таков был вывод Маркса. Когда я пришел к Николаю Ивановичу и показал вот эту фразу, он похлопал меня по плечу и говорит: «Теперь посвящаю вас в референты».
[О некоторых учениках]
В 1938—40 годах я работал в ГИТИСе. Моей аспиранткой была Можаровская — дочь [писателя] Василия Григорьевича Яна (Янчевецкий его фамилия). А в 1940 году открылись курсы переводчиков ЦК партии. Это же курсы были специально для того, чтобы переводчиков готовить к войне, понимаете? Она сказала, что такого преподавателя, который может вести два языка — и английский, и французский — найти трудно, что она меня будет рекомендовать туда, и я подал бумаги. Я попал на восточный факультет, где первый язык был японский, китайский, хинди, урду, а второй — французский или английский. Я преподавал и тот и другой язык.
С началом войны обучавшихся там сорок с чем-то человек, причем половина из них были девушки, перевели в Фергану в военный институт иностранных языков, который потом был переведен в Ставрополь-на-Волге, теперь это Тольятти. Ставрополь ведь находится на левом, азиатском берегу за Волгой, а Жигули — высокий берег — на европейской стороне. Я переплывал Волгу у Жигулей туда и обратно.
Из слушателей этих курсов недавно по телевидению жена видела Михаила Степановича Капицу — он первый от нашего министерства иностранных дел ездил в Китай. Он был первым нашим послом в Пакистане. У него хинди, урду, по-моему, он потом изучал не то японский, не то даже китайский. Это был один из самых способных моих учеников.
Ну, а когда было 25-летие военного института в Доме Красной армии, он ко мне подошел, вспомнил меня и танцевал с моей женой, по-моему, что-то вроде one step’а. Он великолепно танцует.
Очень хорошие были девушки. Две — я даже запомнил их фамилии: Лаушкина и Раушкина — обе прекрасно танцевали. Одну отправили в наше посольство в Парагвай, а другую в Уругвай.
[Об абсолютных конструкциях]
Моя диссертация называлась «Стилистико-грамматическое значение абсолютных конструкций в английском языке».
В ней была большая исторической глава, которую я начал с 14 века. Я показал, что у Чосера даже в переводах с латинского философа Боэция ни один ablativus absolutus не переведен абсолютной конструкцией. Был в 5 веке у Феодосия, императора Восточной Римской империи, его советник Боэций, которого за какую-то крамолу приговорили к смертной казни. Сидя в тюрьме, он написал сочинение De consolatione philosophiae — «Об утешении философией». Эту вещь переводили Чосер и Елизавета I, которая знала вообще чуть ли не семь языков, в том числе древнегреческий и древнееврейский. Это была очень образованная женщина. The Virgin Queen. И еще я проанализировал перевод, сделанный в девятнадцатом веке.
Сначала в английском языке в таких конструкциях был косвенный падеж — не nominative absolute, как в современном языке, a что-то вроде родительного. В русском был дательный самостоятельный: «Солнцу восходящу, прииде Володимир до Киеву» (в летописи). И у Козьмы Пруткова еще есть эти абсолютные конструкции, которым Ломоносов предвещал «великую будущность в русском языке». У Пруткова было: «Сидючи на крыльце, ко мне подошел молодой красивый…» — не помню, кажется граф. Ну, а у Толстого: «Накурившись, между солдатами завязался разговор».
Что ж, и Ломоносовы могут ошибаться.
<< К началу публикации
<< К началу воспоминаний Я.И. Рецкера | << К началу страницы]