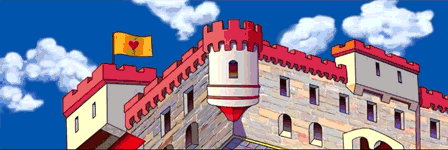Интервью Дмитрия Ермоловича порталу TopTR
О профессии переводчика,
новых переводах Льюиса Кэрролла
и о том, как важно быть вежливым
Опубликовано 10 сентября 2018 г.

TopTR побеседовал с Дмитрием Ермоловичем, доктором филологических наук, профессором МГЛУ, членом редакционного совета «Тетрадей переводчика», одним из основателей переводческого журнала «Мосты», председателем жюри переводческого конкурса «Косинус», а также главным редактором издательства «Аудитория».
Дмитрий Иванович, здравствуйте. Считаете ли Вы, что переводчик — профессия для «неслучайных» людей? Обращаясь к своему преподавательскому опыту, можете ли Вы сказать, что языками с большей вероятностью увлекаются те выпускники, у которых в семье уже есть лингвисты или переводчики?
Для меня несомненно: чтобы стать переводчиком, необходимы некоторые «внутренние» задатки — в том числе психофизиологические. Например, синхронисту необходима хорошая память, высокая скорость реакции, быстрая оценка многофакторной ситуации, способность к распределению внимания, стрессоустойчивость. Развитие этих задатков одним даётся легче, другим тяжелее — во многом в силу природных данных.
Впрочем, и другие виды перевода осваиваются человеком тем успешнее, чем сильнее в нём определённые качества, и главное среди них – то, что называется чувством языка, или лингвистическим «слухом». Так же как и музыкальный слух, это качество очень трудно (а порой невозможно) выработать и развить сознательными усилиями, если его нет изначально.
У меня в семье второй лингвист и переводчик — сестра, но никто из старших поколений нашей семьи никакого профессионального отношения к языкам не имел. Родители были педагоги-экономисты, однако лингвистическим слухом они, без сомнения, обладали, отличаясь любовью к книгам и высокой культурой речи.
Так что совсем необязательно принадлежать к переводческой «династии», чтобы достичь успехов в переводе (да и династий-то таких почти нет). А вот пребывание с ранних лет в культурной среде и начитанность — это, пожалуй, важнейшие катализаторы успеха в нашей профессии.
В одном из своих интервью Вы говорили о том, что, будучи студентом второго курса, Вы часто привлекались к переводческой деятельности — сопровождали иностранные делегации. Как Вы считаете, достаточно ли практики получают сегодняшние студенты-лингвисты, и когда нужно начинать эту практику?
Пожалуй, второй год профессионального обучения, когда пройден вводно-коррективный курс, сформирован уже не очень скудный лексический запас и отработаны базовые клише — идеальное время для начала такой практики. На вопрос о степени достаточности скажу: практики никогда не бывает много, и её всегда можно добавить через участие в самых разнообразных проектах — от международных летних лагерей до волонтёрских программ, было бы желание.
В моё время все студенты переводческого факультета проходили практику в «Интуристе». Сначала профессиональные гиды натаскивали нас, раскрывая все детали и «маленькие хитрости» работы с туристическими группами, учили проводить экскурсии на иностранном языке, а летом, в пик туристического сезона, привлекали к реальной работе гидами-переводчиками (под своим доброжелательным надзором). «Интурист» имел договор с Инъязом и рассматривал студенческую практику совершенно серьёзно, специально выделяя опытных сотрудников для наставничества практикантов, — даже несмотря на то, что никто не обязывал студентов идти в «Интурист» после окончания вуза (но такая возможность у них всегда была).
Я должен сказать, что мне такая практика дала очень много. Во-первых, окончательно «развязала» язык, приучила к живому общению, дала организационные навыки. Во-вторых — и это главное — научила не просто межъязыковому посредничеству, а работе в условиях ответственности за людей, которые не могут обойтись без твоей помощи и внимания. Более того, если гид-переводчик кому-то что-то не так перевёл или не убедился в том, что его поняли правильно, его «клиенты» могут попасть в неловкую или неприятную ситуацию. А также могут воспринять происходящее в искажённом свете. Наставники из «Интуриста» старались, чтобы мы осознали свою ответственность за всё это.
Расскажу такую ситуацию. Группа туристов с речного круиза во время остановки в маленьком городке посещала старую церковь, расписанную красивыми фресками. Несколько иностранцев попросили сопровождавшую их переводчицу поинтересоваться у священника, можно ли делать фотографии в церкви. Тот, громко и торжественно обратившись ко всей группе, ответил, что, хотя церковные правила такого обычно не допускают, он согласен сделать для экскурсантов исключение, потому что церковь нуждается в средствах на реставрацию и он очень надеется, что в ответ на такое исключение уважаемые посетители обдумают возможность сделать необременительный для себя взнос, когда будут проходить мимо ящика для сбора пожертвований.
Вся эта пространная, изящно сформулированная речь превратилась в устах переводчицы в короткое, строгое и довольно грубое предостережение: “If you take pictures, you must pay!” («Если будете фотографировать, вы должны будете заплатить!»), прозвучавшее как угроза. Испуганные туристы тут же попрятали свои фотоаппараты, и церковь, конечно, никаких взносов на ремонт от данной группы не получила. Достигнутый эффект оказался противоположен ожидаемому.
Этот пример я привёл, чтобы показать: перевод — это передача не только какой-то базовой информации, но и других коммуникативных оттенков и что он связан с некоторой моральной ответственностью. Мы отвечаем за то, чтобы не создать у адресата превратной картины происходящего. Значение этого фактора, боюсь, сегодня не всегда и не всеми оценивается в полной мере.
Практика работы гидом-переводчиком, помимо прочего, воспитывала такую ответственность. Боюсь, что упомянутая переводчица никогда не проходила профессиональной практики, и об этом можно только жалеть.
Привлекали ли Вы своих студентов к совместной работе (например, к выполнению синхронного перевода, письменного перевода для издательств)?
Намерения у меня такие были, но студентам и даже «свежим» выпускникам вузов, как правило, ещё немало нужно тренироваться в различных «песочницах», прежде чем дело может дойти до серьёзной профессиональной работы синхронистом. У них, несмотря ни на что, ещё очень скромен лексико-терминологический арсенал, запас клише и фактических знаний, не закрепились нужные автоматизмы. К упомянутым «песочницам» я отношу работу (или подработку) в компаниях и учреждениях, различные дополнительные курсы и тренинги по синхронному переводу, а также сопровождение в качестве «линейного» переводчика делегатов на многоязычных форумах и конференциях, где во время заседаний можно тихонько тренироваться «для себя», пользуясь имеющимися в залах наушниками.
Пару раз я привлекал к работе в кабине вместе с собой ещё не накопивших практического опыта аспирантов. Увы, эти опыты оказались неудачными. В свои перерывы вместо отдыха я вынужден был сидеть в кабине, напряжённо слушать молодого напарника и постоянно писать для него на бумаге какие-то слова и подсказки. А порой молодые коллеги не выдерживали стресса, их перевод «сыпался», и в таких случаях приходилось переключать микрофон на себя. Поэтому в дальнейшем на подобные эксперименты я не решался.
В письменном переводе пока тоже успешных проектов с участием студентов не было, но в недалёком будущем они могут состояться. Те произведения, над переводом которых я работаю для издательств, — это образцы высокой литературы, предъявляющие к языковому «слуху» и способностям переводчика особые требования. Обладатели таких данных встречаются и среди молодых переводчиков (хотя, скажу прямо, нечасто). Один мой давний, ещё советских времён, выпускник когда-то написал под моим руководством прекрасную дипломную работу, в основе которой лежал художественный перевод. В те годы издать этот труд было невозможно, но сегодня ситуация другая, и мы с ним сейчас задумались о том, чтобы превратить эту старую студенческую работу в книгу. Есть и другие проекты с участием уже недавних выпускников.
Как Вы считаете, должны ли бюро переводов и вузы сотрудничать теснее, чтобы повышать уровень выпускников? Если да, то как это можно реализовать?
С вузами имеет смысл сотрудничать любым работодателям, не только бюро переводов. Один из удобных форматов для этого — как раз такая тренировочная практика, о которой я уже рассказывал на примере сотрудничества «Интуриста» и Института иностранных языков имени Мориса Тореза (так в прошлом назывался МГЛУ). Как известно, всё новое — это хорошо забытое старое.
В одном из интервью вы советуете переводчикам в моменты приливов излишнего самомнения повторять мантру: «Я ничего не знаю. Я самый неспособный переводчик на свете». А если переводчик (в особенности молодой специалист) поверит в то, что он, действительно, недостоин занимать место в кабине синхрониста? Есть ли какие-то методы, чтобы вернуть уверенность в себе?
Вряд ли переводчик незаслуженно разуверится в своих силах под влиянием одной лишь моей «мантры». Но что, если он просто трезво оценит свои возможности и поймёт, что синхронный перевод — это не его поприще? Думаю, вряд ли нужно переубеждать его в обратном. Возможно, он будет куда успешнее в другой сфере деятельности.
Вообще, если у переводчика возникают сомнения в своём профессиональном выборе, я бы советовал ему попросить откровенного совета у специалистов, хотя бы двух. Я думаю, они вернут ему уверенность, если он занизил самооценку. Но может быть, и подтвердят его опасения.
Как Вы настраиваете себя после профессиональных неудач?
Серьёзных профессиональных неудач у меня, к счастью, не было (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить). Но, конечно, бывали и бывают случаи, когда не чувствуешь полной удовлетворённости своим переводом или сожалеешь, что не выразился в том или ином месте точнее, лаконичнее, ярче. В таких случаях я говорю себе, что любое осознанное упущение идёт в копилку профессионального опыта. Как правило, сделанную один раз ошибку я впоследствии не повторяю — она слишком глубоко врезается в память.
Ну, а на эмоциональном уровне мелкие огорчения я преодолеваю, слушая хорошую классическую музыку. С её подбором, кстати, даже напрягаться не надо — достаточно просто включить радиостанцию «Орфей». Добавлю, что классическая музыка прекрасно «чистит» душу и мысли от всякого сора и перед работой. Если мне предстоит ответственный перевод, выступление на конференции или лекция, я всегда слушаю классику перед выходом из дома, а если еду на машине — то и в автомобиле.
Читая Ваши ответы в рубрике «Вопросы-ответы, дискуссии» на сайте, мы обратили внимание, что Вы всегда отвечаете очень вежливо. Даже на провокационные вопросы! Насколько терпение и вежливость важны в профессии переводчика? Можете ли Вы привести примеры из профессионального опыта (без имён, конечно), когда переводчик из-за своей невыдержанности или отсутствия такта лишался работы/портил отношения с заказчиком?

Я исхожу из того, что провокационные вопросы или неучтивые реплики в подавляющем большинстве случаев объясняются влиянием сиюминутных эмоций. Спокойный вежливый ответ — лучшее, на мой взгляд, средство дать человеку понять, что он погорячился. Тем более если в этом ответе аргументированно (и без ехидства) показать ему, что проблема не в моей ошибке, а в его недостатке знаний. Как часто видно из последующей переписки, люди, прочитав подробный, хорошо обоснованный ответ на свои замечания, обычно успокаиваются и осознают, что были неправы.
Конечно, встречаются и такие, с позволения сказать, оппоненты, коих любые доводы не устраивают. Им важно лишь ущипнуть, уличить в какой-нибудь ошибке человека, «обременённого» научной степенью доктора наук и званием профессора. К примеру, некий критикан придрался к какому-то тезису в одной из моих статей. Отвечая ему, я сослался на правила стихосложения прошлого века. Тогда он тут же переключился на высмеивание этого термина, заявив, что говорил не о правилах стихосложения, а о просодии. Ну что ж, мне пришлось привести цитаты из справочников, в которых разъясняется, что правила стихосложения и просодия — это одно и то же. Мой оппонент, нимало не смутившись, тут же стал придираться к чему-то ещё. Мне стало ясно, что своим критиканством он втягивает меня в бесконечную и бесплодную полемику, потому что не преследует цель выяснить истину, а страдает от болезненного желания хоть что-нибудь опровергнуть. В таких случаях я просто прекращаю спор за бессмысленностью и блокирую графомана. Впрочем, за все годы существования моего персонального сайта yermolovich.ru, который я веду с 2008 года, таких «писателей» было всего несколько.
С другой стороны, есть и среди переводоведов авторы «научных» статей, которые возвели в принцип критику оппонентов в ехидной, издевательской, а то и хамоватой манере. Такие вызывают у меня неприязнь — пусть даже они сто раз правы по существу спора. Они думают, что блещут хлёстким остроумием, поливая кого-то ядом, но, увы, не подозревают, насколько неприглядно они на самом деле смотрятся.
Что касается невыдержанности переводчика в отношениях с заказчиком, то свидетелем подобных сцен мне быть не приходилось. Видимо, специальность устного переводчика предрасполагает к терпению и такту. По крайней мере, мне самому практически всегда удавалось решить возникающие проблемы, не повышая голоса. Могу привести пример.
Однажды меня пригласили перевести последовательно презентацию нового коммуникационного устройства. Придя на место заранее, я осмотрел площадку: лектор должен был находиться на сцене, свободно передвигаясь по ней с микрофоном и что-то демонстрируя аудитории. Я пришёл к выводу, что в таких условиях мне лучше находиться не на сцене (динамики были повёрнуты в сторону зала, и если бы оратор повернулся ко мне спиной, я бы вообще ничего не слышал, кроме размытого гула, отражаемого от стен). Да и передвигаться по сцене вместе с лектором, путаясь у него под ногами, было бы глупо. Поэтому я попросил поставить мой микрофон на боковой столик перед сценой, лицом к ней. Публика в таком случае слышала бы мой перевод, звучащий как бы за кадром. Я уже по опыту знал, что в подобных ситуациях это — оптимальная расстановка.
Но представитель заказчика — девушка раза в два с половиной моложе меня — повелительно заявила мне, сощурив двухсантиметровые ресницы: «Вы должны находиться на сцене!» Я объяснил, что это не очень разумно, поскольку не стоит отвлекать на мою персону внимание публики, которой гораздо интереснее лектор и новое оборудование. Я не сурдопереводчик, и публике нужен только мой голос, мой перевод, а не моя внешность. В кино же, например, переводчик не сидит на сцене, не так ли?
Возразить на это девушка ничего не могла, но продолжала упрямо настаивать на своём, раздражённо твердя: «Но у нас так принято!» Не повышая голоса, я продолжал развивать свои аргументы, ссылаясь на долгий опыт и уверяя её, что я отвечаю за успех презентации в том, что касается перевода. В ответ слышалось всё то же: «Но у нас принято так!» Кончилось это тем, что, понаблюдав за этим разговором, к девице подошёл некий мужчина, взял её под руку и сказал ей проникновенно на ухо: «Света, оставь ты его в покое. Наверное, он своё дело знает».
В итоге моё рабочее место оборудовали так, как я просил, и мероприятие прошло превосходно. Комфортно было и публике, и мне: я всё отлично видел и слышал; переводил я точно и уверенно, не испытывая никаких проблем, а зрители чувствовали себя почти как на кинофестивале, когда перевод поступает в зал из невидимого источника. Все были довольны, а организаторы подошли потом специально поблагодарить меня за предложенное решение.
Разве можно было бы решить проблему, потеряв выдержку в разговоре с малоопытной, но самоуверенной девицей?
Насколько важно преподавателю оставаться практикующим переводчиком?
Чрезвычайно важно. Как можно чему-то учить, если не умеешь делать этого сам и не поддерживаешь свою квалификацию? Кроме того, практическая работа позволяет оставаться в курсе последних событий и лексико-терминологических новаций и даёт огромный практический материал для тренировки студентов.
Назовите, пожалуйста, книги, которые Вы советуете прочитать по теории и практике перевода.
Интересных и полезных книг по переводу немало. Пожалуй, я назову несколько книг, открывающих длинный список полезной литературы.
Первым номером я поставил бы книгу моего учителя Якова Иосифовича Рецкера «Теория перевода и переводческая практика» , пятое издание которой вышло под моей редакцией и с моими дополнениями в 2016 году в издательстве «Аудитория». Книга эта интересна не только богатейшим содержанием, но и тем, какой предстаёт перед читателем личность автора — человека потрясающей эрудиции и ума, чья преданность своему делу была и остаётся для меня непревзойдённым образцом.
Если Я. И. Рецкер писал доступно и увлекательно, то труды Вилена Наумовича Комиссарова написаны куда более строгим и не всегда лёгким для усвоения академическим языком. Например, одну из его ранних монографий, «Слово о переводе» (1973) я перечитал три (!) раза, прежде чем в полной мере понял суть его научной теории. Но эти усилия были вознаграждены: мне стало ясно, что Вилен Наумович совершил подлинное открытие в теоретическом осознании перевода, показав многослойность описываемой в тексте ситуации и выделив уровни эквивалентности перевода. Полнее всего его теория изложена в последнем издании книги: В. Н. Комиссаров «Современное переводоведение» (2011), вышедшем также под моей редакцией. Я считаю, что за многие годы концепция доказала свою силу, в отличие от многих «модных» идей, на время увлёкших переводоведов. Помните, одно время у всех на устах был «когнитивный подход к переводу», якобы затмивший собой традиционный семантический подход? Мне с самого начала этот когнитивизм казался пустышкой, и время показало его полную бесполезность для переводчиков. Сейчас о нём уже почти никто и не говорит. Такая же участь, я уверен, постигнет и модную ныне «теорию межкультурной коммуникации», которую я считаю конструктом, лишённым всяких научных оснований. Об этом мы с Павлом Палажченко написали совместную статью «Блеск и нищета учебных модулей по „межкультурной коммуникации“».
Не могу не порекомендовать переводчикам и собственную монографию «Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи» (2005), которая не теряет актуальности в связи с тем, что корректная передача имён собственных — это просто больная тема в практике перевода.
Одной из выдающихся книг по истории перевода я считаю книгу А. Азова «Поверженные буквалисты» (Изд. дом Высшей школы экономики, 2013), которую хорошо бы прочитать после «Высокого искусства» Корнея Чуковского (1964), — из этих двух книг вы получите потрясающе объёмное представление о той жестокой (для одной из сторон) полемике, которая развернулась между сторонниками различных подходов к переводу в советские годы, но в какой-то мере продолжается и по сей день.
Что побудило Вас выполнить новые переводы произведений Льюиса Кэрролла (сказок об Алисе и других)?
Ваш вопрос как нельзя кстати: недавно в издательстве «Аудитория» вышел сборник всех основных произведений великого английского сказочника в моих переводах — Л. Кэрролл «Все шедевры» (2018). В него вошли «Алиса в Стране Чудес», «Зазеркалье», фантазии «Охота на Угада», «Фантасмагория», «Три голоса», шутливые пародии «Фотосъёмка Гайаваты», «Затянувшееся сватовство» и другие. Некоторые из этих вещей мало известны русскому читателю, а зря. Это замечательная литература.
Произведения Кэрролла и принципы их перевода я изучаю ещё со студенческой скамьи. Моя русская версия поэмы «Охота на Угада», поддержанная Марией Фёдоровной Лорие, председателем секции переводчиков Союза писателей СССР, едва не была издана ещё в 1975 году (почему этого не произошло, рассказано в предисловии к изданию 2015 года). «Алису в Стране Чудес» я перевёл в те же годы «для себя» — но на фоне появившихся тогда чуть не одновременно нескольких переводов Кэрролла издать мой перевод просто не представлялось возможным.
Делая свой перевод, я не сверял свои находки и переводческие решения с вариантами предшественников. Но по окончании работы изучил их труды и с удивлением констатировал, что среди наиболее известных опубликованных переводов книг Кэрролла не оказалось ни одного, выполненного специалистом‐переводчиком. Имелись переводы двух писателей, журналиста, инженера-электротехника, химика-технолога, литературоведа, компаративиста-этимолога, исследователя семитских языков… Между тем я убеждён, что, не владея принципами и подходами, выработанными современной наукой о переводе, и не будучи специалистом именно по переводу с английского языка, невозможно предложить читателю достойную версию творчества этого писателя на русском.
Многие переводы (включая версии Владимира Набокова и Бориса Заходера) страдают безудержной русификацией — подход, который устарел особенно в современную эпоху, когда мы гораздо лучше знакомы с культурой и бытом других стран и ни в каком «одомашнивании» переводов не нуждаемся. Увы, устарел и поблёк казавшийся когда-то революционным перевод Нины Демуровой: по менталитету и системе образов он оказался насквозь «советским»: по этому тексту, валет крадёт у королевы не пирожные, а «котлеты» и «бульон» (типичное меню советских столовых), сестрички живут в «кисельном» колодце — хотя такого напитка, как кисель (из того же меню), англичане не знают; Под-Котик, современному читателю непонятный, отсылает к эпохе советского мехового дефицита (правда, в позднейших изданиях имя этого персонажа было заменено на лишённый всякого юмора и подтекста вариант Черепаха Квази, который ещё хуже — звучит как малопонятный научный термин).
При внимательном рассмотрении в этих переводов обнаружилось немало смысловых искажений и огромное количество — образных. Переводчики почему-то считали, что так и надо, что они вольны расправляться с образной системой Кэрролла, как им вздумается. Конечно, эта позиция идёт вразрез с принципами эквивалентного перевода.
Впрочем, здесь не место для подробного анализа; желающие могут прочесть мои детальные комментарии к предшествующим переводам Кэрролла в изданиях, выходивших в издательстве «Аудитория» в последние годы, а также узнать подробности из лекции, видеозапись которой выложена у меня на сайте, или из статьи «Кто украл пирожные из Страны Чудес, или Беззубая улыбка Чеширского Кота».
Каких ещё авторов Вы переводите для издательств?
Мне в последнее время везёт на открытие талантливых писателей, новых для русской читательской аудитории: так, недавно удалось обнаружить никогда не переводившиеся произведения английского писателя Уильяма Гилберта, работавшего в чрезвычайно редком жанре литературного венка: «Волшебное зеркало» (эту книгу мы перевели вместе с Татьяной Рыбиной) и «Чародей из горного замка» — романы из разнообразных по сюжету новелл, объединённых в общую фабулу со сквозными персонажами. Гилберт — один из родоначальников фэнтези и, что для меня особенно важно, виртуозный мастер слова с прекрасным чувством юмора.
После этого талантливые, но никогда не переводившиеся на русский произведения буквально поплыли ко мне в руки. Так, в апреле этого года на парижском «блошином рынке» мне в руки попалась великолепно иллюстрированная книга одного французского писателя начала ХХ века. Потянув за «ниточку», я установил, что она входит в восьмитомную серию, и буквально за пару месяцев через книжные сайты разных стран Европы удалось приобрести и все остальные тома серии. Эти книги восхитили и увлекли меня. С энтузиазмом отнеслись к проекту и в издательстве «Аудитория», работа закипела, и вот произведения уже готовятся к выходу в свет в моём переводе с французского. (К сожалению, по договорённости с издательством до их выпуска в продажу я пока не могу назвать ни автора, ни самих книг.) А в чуть более дальней перспективе дожидается моего перевода ещё один превосходный английский писатель.
Кроме того, что Вы – переводчик, вы ещё и иллюстратор. Скажите, пожалуйста, эти две профессии как-то помогают друг другу? Для переводчика уметь рисовать – это приятное хобби или полезный навык, который может пригодиться?
Уточню, что для меня изобразительное искусство — не хобби, а, можно сказать, вторая специальность, так как я обучался ей много лет ежедневно, начиная с первого класса: сначала в специальной художественной школе в дополнение к обычной (утром шёл в «простую» среднюю школу, после обеда ехал на другой конец города в художественную), а затем в Московском академическом художественном лицее (тогда он назывался несколько иначе), куда я поступил после пятого класса, выдержав вступительные экзамены при жесточайшем конкурсе. Это уникальное учебное заведение, единственное на всю страну, где с учащимися изо дня в день занимались маститые живописцы и скульпторы, члены Союза художников.
Впрочем, я увлекался и другими дисциплинами — математикой, например, по которой имел отличные оценки, и, конечно, английским языком. Не буду углубляться здесь в причины, по которым я поступил всё-таки в языковой вуз, но изобразительное искусство от меня никуда не уходило. Конечно, знание искусства (как и любой другой области культуры) в высшей степени полезно переводчику, хотя бы как часть общей эрудиции. Меня удручает, когда современные студенты на вопрос «Кто автор „Ночного дозора“?» неизменно отвечают: Лукьяненко, не подозревая, что автор этой книги позаимствовал её название у великой картины Рембрандта. Соответственно, если им придётся переводить это выражение на иностранный язык, они не будут знать, от какого первоисточника отталкиваться в поисках эквивалента.
Уметь рисовать переводчику, конечно, необязательно. Но молодое поколение необходимо как можно раньше приобщать к искусству (не только к изобразительному, а и к другим его видам) ради формирования их эстетического вкуса, умения видеть красоту, наслаждаться ею и беречь её. Я был бы сторонником преподавания искусствоведения в лингвистических вузах. Хороший вкус, чувство стиля непременно пригодится и в практическом переводе. Если говорить о литературном переводе, то в этой сфере тонкий вкус — sine qua non, абсолютно необходимое условие.
Основное здание МГЛУ находится на Остоженке, в исторической старой Москве. На улицах Остоженка и Пречистенка, а также в прилегающих переулках буквально на каждом шагу — выдающиеся образцы архитектуры XIX века. Мне грустно, что студенты абсолютно ничего про них не знают, не замечают шедевров, мимо которых ходят. Когда люди не понимают исторического и эстетического значения того, что их окружает, они равнодушны к гибели этого окружения. Потому-то и исчезают на наших глазах то одни, то другие памятники культуры, а их заменяет бездарный китч.
У Вас есть немало трудов по теме передачи имён собственных между культурами. Это исключительно поле Ваших интересов или ещё и практическая польза для Вас как для переводчика?
Я уже упоминал о том, что корректная передача имён собственных — одна из острых проблем перевода. Но не только перевода, а и вообще всей нашей жизни. Мы на каждом шагу сталкиваемся с доморощенными транскрипциями и транслитерациями (на указателях, вывесках, табличках и в подписях, наконец, в наших собственных паспортах и удостоверениях). Зачастую они выполнены некомпетентно, нередко абсурдны и смешны. Я давно уже выступаю в книгах и статьях за упорядочение и унификацию правил кириллическо-латинской транслитерации, но беда в том, что к мнению учёных административные органы почти не прислушиваются. Так, написание латиницей наших имён и фамилий в загранпаспортах «регулируется» взятыми с потолка нормативами, совершенно неподходящими для этой цели.
На своём сайте мне приходится постоянно отвечать на вопросы по именам собственным. Знание и соблюдение научных норм в этой сфере облегчило бы жизнь не только переводчикам, но и обычным людям. Иногда — хоть и крайне редко — удаётся добиться маленьких побед. К примеру, мне довелось помочь нашей соотечественнице, живущей в Нидерландах, которая захотела дать своей дочери российское гражданство. Неожиданно возникла проблема с написанием имени девочки в документах: российское консульство не согласилось с вариантом, предложенным присяжным переводчиком, и потребовало переделать бумаги. При этом консульские работники ссылались... на монографию Ермоловича! Вот женщина и написала мне письмо на сайт… О том, как развивались события и что из этого вышло, я рассказываю в статье «Сила теории, или Девочка и зверь». И подобные случаи в моей практике не так уже редки.
Ономастика — наука весьма практическая. Но я занимаюсь не только ею, а и многими другими проблемами перевода и филологии, и всегда имею в виду практические их аспекты. Такой подход я унаследовал от своих великих учителей — Я. И. Рецкера, В. Н. Комиссарова, Л. С. Бархударова, А. Д. Швейцера, М. Я. Цвиллинга, Ю. А. Денисенко, С. А. Бурляй. Я счастлив, что мне довелось учиться, работать и общаться с ними, это моё драгоценное наследие.