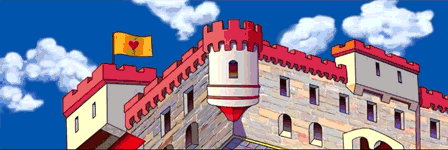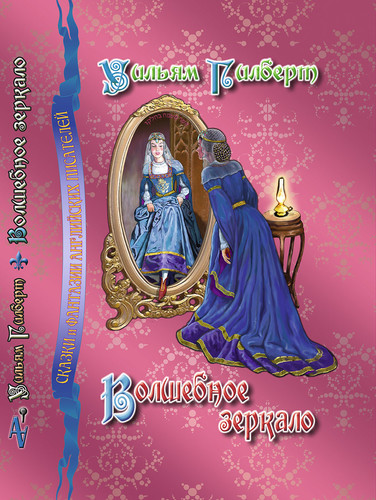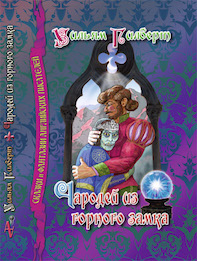Сайт Д.И. Ермоловича
РАЗДЕЛЫ САЙТА
Вопросы-ответы, дискуссии
Главная » Вопросы-ответы, дискуссии (665)
Переход к страницам с материалами: 1-7 8-14 15-21 ... 652-658 659-665
Вопросы и ответы [484]
В этой рубрике размещаются вопросы, которые пользователи сайта задают Д.И. Ермоловичу
Дополняем НБРАС [86]
Сюда можно направлять все предложения, дополнения и замечания по содержанию "Нового Большого русско-английского словаря" Д.И. Ермоловича и Т.М. Красавиной
Дискуссии и полемика [102]
В этой рубрике можно высказать своё мнение по дискуссионным вопросам
Содержание:
Последние 7 материалов из всех рубрик раздела:
Уважаемый Дмитрий Иванович!
Недавно я переводил субтитры для вот этого видео и вспомнил ваш новый учебник и видео о грамматических конструкциях и сложностях их перевода на русский.
Мне встретилось вот это предложение и я подумал поделиться им с вами.
The dramatic musculature was over-the-top, but all the more powerful for being so extreme.
Я пока перевел вот так (мне не очень нравится): "По своей выразительности мускулатура превосходила всё ранее виденное скульптором, а благодаря своему драматизму казалась невероятной."
Возможно, вы предложите более интересный перевод.
С уважением,
Ростислав
Д.И. ЕРМОЛОВИЧ:Ростислав, Вы привели очень интересный и действительно трудный для перевода пример. Чтобы перевести его наилучшим образом, нужно прежде всего разобраться в значении эпитета over-the-top, который образован от наречного выражения over the top. Словари определяют последнее как "to an excessive or exaggerated degree", т.е. "в преувеличенной степени, чрезмерно". Применительно к мускулатуре это значит "преувеличенно мощная".
Что касается оборота all the more (+ adj) for (+ adj, participle, noun), то его смысл — в усилении степени того качества, которое обозначено прилагательным после all the more, благодаря тому качеству или фактору, которые указаны после предлога for. В данном случае being so extreme — причина повышенной силы воздействия, драматизма произведения.
Вашу фразу я бы перевёл так:
Напряжённая мускулатура изображена преувеличено мощной, но именно благодаря этой крайности скульптура пронизана особенным драматизмом.
или лаконичнее (с учётом того, что это субтитры):
Преувеличенная мускулистость героя усиливает драматизм изображаемого события.
Возможны и другие варианты, конечно, но мысль, я думаю, Вы поняли: преувеличенно мускулистая фигура Лаокоона выражает напряжённость сцены и производит тем самым особо сильное впечатление на зрителя.
Вопросы и ответы |
Как перевести фразу: all the more powerful for being so extreme?
Просмотров: 252 |
Дата: 12.12.2025
| Рейтинг: 5.0/2
| Комментарии (0)
Здравствуйте, Дмитрий Иванович!
В связи с упоминанием в российских СМИ американского политического активиста Чарли Кирка (Charlie Kirk) я в очередной раз задумался над правилами транскрипции и транслитерации. Очевидно, что при передаче его фамилии на русский язык используется транслитерация, потому что иначе было бы Керк, как вы рекомендуете в своей книге. Есть, кроме того и вариант Кёрк, который многих не устроит, но он явно самый близкий к оригинальному произношению.
Есть и другие известные люди с такой же фамилией/именем. Сразу вспомнился актер Кирк Дуглас (Kirk Douglas) - здесь полностью транслитерация, иначе был бы Керк Даглас. Понятно, что Кирк Дуглас стал известен давно и там уже закрепился традиционный вариант, но Чарли Кирк появился недавно и все слышат, как его фамилия произносится по-английски. Тем не менее нашими СМИ был выбран вариант Кирк.
Потом случайно мне попался на глаза другой актер, Richard Burton. А вот его везде в интернете передают при помощи практической транскрипции - как Ричард Бёртон или Бертон. Не Ричард Буртон или Бартон (хотя последний вариант все же встречается в интернете), и тем более не Рикхард. Хотя они одного поколения с Дугласом.
Подскажите, пожалуйста, почему так сложилось? Похоже, что всё строится частично на традиционных соответствиях, частично на стихийном употреблении.
Не очень понятно, что превалирует при передаче английских имен - транскрипция или транслитерация? С каждым конкретным человеком применяется то один, то второй подход. А иногда и смесь получается. Например, можно пойти дальше и задаться вопросом, почему, например, Джо Байдена не называют по-русски Джоу Байден или Джо Биден? И почему тогда уж Чарли Кирк не Карли Кирк. Понятно, что последние вопросы риторические и даже анекдотические, но тем не менее.
Д.И. ЕРМОЛОВИЧ:Илья, ну, раз Вы читали мою книгу, то, вероятно, помните, что большинство проблем практической транскрипции возникают из так называемых антиномий (противоречий, несоответствий), изначально присущих именам собственным (ИС), причём как межъязыкового, так и внутриязыкового характера. Для английского языка проблема особенно осложнена расхождениями в написании ИС и их произношении. Те, кто сталкивается с необходимостью передать имя на другом языке, постоянно находятся, так сказать, в магнитном поле разнонаправленных сил: то ли равняться на орфографию, то ли на орфоэпию, то ли на «старые» образцы. Да, по правилам следует писать «Керк», а не *Кирк. Но кто помнит какие-то правила, а вот про актёра Кирка Дугласа (в устаревшем написании) слышали многие. Человеку с русским языковым сознанием трудно понять и принять, почему латинская буква i может читаться как-то иначе, чем «и». Ведь ему кажется, что в русском языке всё читается так, как пишется (хотя и в русском уже возникло множество расхождений между произношением и написанием — для примера приведу слова что [што], сегодня [севодня], лестница [лесница], спится [спицца] и т.д.).
Что касается Джо Байдена, то тут всё по правилам (которые допускают элементы транслитерации): дифтонг [əʊ], если он обозначается конечной одиночной буквой о, передаётся в русской ПТ тоже одиночной буквой о.
Ошибки и разночтения возникали и, к сожалению, будут возникать. Если Вам хочется быть последовательным, используйте мои «Правила», а также — для исторических имён — «Англо-русский иллюстрированный словарь персналий».
Вопросы и ответы |
Транскрипция vs. транслитерация при передаче английских имен
Просмотров: 417 |
Дата: 16.09.2025
| Рейтинг: 0.0/0
| Комментарии (0)
Уважаемый Дмитрий Иванович!
Много лет при переводе ИС я пользовалась таблицами из <<Имен собственных...>> и всем рекомендовала поступать так же. А недавно необходимость перевести большой объем топонимов для геофильтров сайта заставила меня чуть глубже вникнуть в вопрос, и я несколько озадачена сделанными <<открытиями>>.
Главное из них, что при передаче иноязычных топонимов (для целей картографии и всего, на что она влияет) до сих пор считаются обязательными инструкции ГУГК.
В <<Именах собственных...>> я не нашла никаких упоминаний этих инструкций, но указывается справочник Гиляревского и Старостина, которые указывали инструкции в качестве источников. В известной вам <<статье>> про транскрипцию с португальского в Википедии и ее клонах пишут, что в таблица из справочника Гиляревского и Старостина полностью идентична инструкции ГУГК (но не обновлена после выхода ее последней и ныне действующей версии), а в вашем пособии предлагается она же.
В вопросах-ответах на сайте читала комментарий про «этот стон у них песней зовется» -- очевидно, что как минимум с инструкцией по передаче географических названий с английского вы не согласны.
Вопроса у меня, собственно два:
1. Как быть с обязательным -- не рекомендательным -- характером этих инструкций и с тем, что какими бы несовершенными эти инструкции ни были, их несоблюдение приводит к тому, что мы плодим названия, которых нет на картах? Во времена интернета и со страшной скоростью плодящегося контента это уже привело к ощутимым последствиям, которые и вынудили меня закопаться в вопрос.
2. Можете ли вы уточнить, в каких все же отношениях таблицы из «Имен собственных...» и инструкции ГУГК: для каких языков, кроме португальского, соответствия совпадают (если таковые еще имеются), а где примечание «Приложения составлены Ермоловичем Д.И.» нужно понимать буквально?
Спасибо!
Д.И. ЕРМОЛОВИЧ:Уважаемая Эмма!
Начну с последнего Вашего вопроса: «где примечание "Приложения составлены Ермоловичем Д.И." нужно понимать буквально?»
Я не знаю, что Вы имеете в виду под «буквальным» пониманием слова, но данное примечание во всех случаях следует понимать согласно первому (и основному) словарному значению слова составить, а именно:
соста́вить сов., что. 1. Собрав, соединив, объединив что-н., образовать какое-н. целое. Составить фразу. | Составить сборник постановлений. | Составить задачник.
(С. И. Ожегов «Толковый словарь русского языка»)
Есть люди, которые понимают слово составить почему-то в значении ‘создать впервые’ или ‘придумать’ и приписывают мне употребление данного слова в этом смысле. Я могу только посоветовать им иногда заглядывать в словари. Что касается меня, то я действительно составил эти таблицы — то есть собрал, объединив в единое целое материал из разных источников, среди которых справочник Гиляревского и Старостина — далеко не единственный.
Более того, когда это удавалось, я привлекал к работе над этими таблицами авторитетных учёных, специалистов по соответствующим языкам, чтобы уточнить спорные моменты. В 2016 году новая редакция таблиц была издана в виде справочника «Правила практической транскрипции имён и названий с 29 языков на русский и с русского на английский». В предисловии к этому справочнику (с. 3) указаны имена основных специалистов, внёсших свой вклад в уточнение и дополнение «Правил», хотя я проводил и некоторые собственные дополнительные исследования, а также учитывал многочисленные письма читателей моей сайта.
Конкретно по проблемам португальско-русской транскрипции можно прочитать около десятка материалов на сайте, стоит только ввести в окошечко «Поиск по сайту» слово португальский. Вынужден повторить то, что уже писал в одном из материалов:
Взгляды на многие вопросы транскрипции и транслитерации у разных специалистов расходятся: то, что одни считают правильным, другие могут воспринимать иначе. Часто в действие вступают и трудноразрешимые противоречия между тем, что вроде бы уже принято и давно практикуется, и какими-то новыми подходами к передаче имён. Так что, смею Вас заверить, замечания будут появляться всегда, как бы тщательно ни корректировалась и ни проверялась консультантами любая новая версия правил.
Теперь — к Вашему первому вопросу. Инструкции ГУГК, возможно, и сохраняют формальную нормативность из-за того, что никем официально не отменялись, но фактически устарели и мало где соблюдаются в реальной практике потому, что они были созданы без координации с разработками, охватывающими имена собственные вообще, а не только топонимы. Приведу один пример: по инструкциям ГУГК, наименование города Jacksonville следует по-русски транскрибировать как Джэксонвилл (через э). При этом город получил своё имя в честь Эндрю Джексона (Andrew Jackson), первого военного губернатора Флориды и впоследствии седьмого президента США. Не странно ли: в честь Джексона — город Джэксонвилл? Даже русская Википедия, старательно пытающаяся выдерживать транскрипцию по ГУГК, нет-нет да и сбивается на написание Джексонвилл.
И вот ещё интересный факт: изданный 30 лет назад Каталог действующих нормативных и методических документов по стандартизации географических названий. (М.: Картгеоцентр — Геодезиздат, 1995) перечисляет более сотни (!) документов (инструкций и словарей), призванных стандартизировать транскрипцию на русский названий с разных языков, но при этом указывает:
В настоящий каталог вошли только те документы, которые не потеряли своей актуальности до настоящего времени (выделено мною. — Д.Е.)
На основе каких критериев определяется актуальность документов или её утрата, не указано. Итак, ещё в 1995 году многие инструкции считались утратившими актуальность. Что же говорить в наше время!
Резюмирую: на сегодняшний день ситуация такова, что единые стандарты практической транскрипции имён собственных с иностранных языков на русский, которые имели бы обязательную силу, в нашей стране отсутствуют. Плохо это или хорошо — вопрос отдельный (в целом, наверное, плохо; но учитывая, что с мнением лингвистов регулирующие органы считаются редко, может, и не так плохо — особенно на фоне «нормативов» для передачи имён с русского на латиницу, которые придумало МВД для наших загранпаспортов).
Поэтому, чтобы придерживаться более или менее единообразной системы, каждый автор волен выбирать для себя нормативный источник: хотите — руководствуйтесь инструкциями ГУГК, хотите — Википедией или другой энциклопедией, а хотите — моим справочником, учитывая хотя бы то, что над ним работал не только автор — доктор филологических наук, но и научный редактор — профессор С. Г. Ваняшкин, а также то, что в своё время эта работа (в составе монографии) получила гриф «рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области лингвистики Минобрнауки РФ».
В идеале, если и когда государство сочтёт вопрос актуальным, желательно было бы создать набор стандартов ПТ (периодически обновляемый) усилиями коллектива авторитетных лингвистов. Ну, а пока имеем то, что имеем.
Вопросы и ответы |
Таблицы практической транскрипции и (или) инструкции ГУГК?
Просмотров: 314 |
Дата: 04.09.2025
| Рейтинг: 0.0/0
| Комментарии (0)
Уважаемый Дмитрий Иванович!
Как Вы, вероятно, знаете, с подачи организации USAID крупнейшие гуманитарные организации мира исповедуют т.н. "logical framework approach" к планированию собственной деятельности. Согласно этому подходу, целеполагание организации происходит на нескольких иерархических уровнях: goal (general objective), purpose (specific objective), outcome и output.
По Вашему мнению, как следует наиболее корректно переводить все вышеупомянутые англоязычные термины на русский язык? Учитывая, насколько распространен сам подход, хотелось бы иметь некие общепринятые варианты перевода.
С уважением, Тарас
Д.И. ЕРМОЛОВИЧ:Тарас, Вы правы в том, что терминология не устоялась и варьируется даже в рамках одного и того же источника. Например, в брошюре «Оценка эффективности проектов некоммерческих организаций, социального предпринимательства и гражданских инициатив» (Рождественская Н. В., Богуславская С. Б., Боброва О. С., 2016) outcome переводится то как «итог», то как «социальный результат», то как «промежуточный результат», а output — то как «продукт», то как «непосредственный результат».
Если разбираться по сути, то под outputs обычно подразумеваются конкретные вещи и события: опубликованные материалы, проведённые мероприятия, обучение каких-то групп и т.п., а под outcomes — нечто более абстрактное (системные или социальные изменения).
Исходя из этого, мне представляются оптимальными варианты:
goal — цель (или общая, долгосрочная, стратегическая цель проекта);
purpose — задача;
outcome — эффект (или социальный результат);
output — продукт (непосредственный результат деятельности).
Что касается самого принципа logical framework approach, то мне больше всего импонируют переводы принцип логической матрицы или структурно-логический подход. Они звучат профессионально, по-русски и говорят о том, что употребляющий эти термины понимает их смысл. А вот варианты логико-структурный подход, логический фреймворк и т.п. — это чисто формальные ярлычки, которые звучат, на мой взгляд, искусственно, не очень красиво и не слишком внятно.
Вопросы и ответы |
Корректный перевод терминологии сферы гуманитарного развития
Просмотров: 381 |
Дата: 31.07.2025
| Рейтинг: 5.0/1
| Комментарии (1)
Добрый день Дмитрий Иванович!
У меня возникла сложность с передачей ФИО гражданина Эфиопии на русский. Его ФИО:
Beze (фамилия)
Eyayaw Teka (имена)
Я попробовала найти правила транслитерации языка страны (с амхарского языка), но ничего не удалось найти.
Как быть в таком случае?
Cпасибо!
Д.И. ЕРМОЛОВИЧ:Я, разумеется, не специалист по амхарскому, но, как общее правило, при отсутствии специальных справочников приходится применять общепринятые транслитерационные соответствия между латиницей и кириллицей, в данном случае мы получим вариант Эйайау Тека Безе. Это, конечно, предварительное предположение, специалист может внести коррективы. А если есть возможность, то лучше попросить самого гражданина Эфиопии произнести свои имена и проверить правильность данной записи.
Вопросы и ответы |
Передача ФИО гражданина Эфиопии на русский
Просмотров: 376 |
Дата: 15.07.2025
| Рейтинг: 0.0/0
| Комментарии (3)
Здравствуйте, Дмитрий! Скажите, пожалуйста, существует ли на сегодняшний день какой-либо официально утверждённый свод правил транслитерации имён собственных, в частности — отчеств?
У меня возникла следующая ситуация: отчество моего друга — Гарольдович, но в документах его настойчиво переводят с армянского на русский как Арольдович, а иногда даже как Арнольдович. При этом имя Арольд крайне редко встречается в русском языке. Для сравнения, в словаре Суперанской указано:
Аро́льд фр. Harold — см. Гарольд.
Хотелось бы понять, насколько допустима такая передача имени и можно ли считать отчество Арольдович нормативным?
Особенно учитывая, что в армянской записи его отчество указано как Հարոլդի (Харолди) — с начальным звуком «հ», передающим английское h (то есть с придыханием). Следовательно, логично было бы транслитерировать отчество как Гарольдович.
Существует ли официальный источник или нормативный документ, на который можно сослаться, чтобы оспорить неправильную транслитерацию имени?
Д.И. ЕРМОЛОВИЧ:Приветствую, Серж! Существует несколько официальных стандартов романизации (т.е. транслитерации латиницей) букв армянского алфавита. В частности, это:— документ Национального органа по стандартизации и метрологии Республики Армения — АСТ 393-2017 "Транслитерация знаков армянского алфавита знаками латинского алфавита. Правила и руководство по применению", действующий в Армении;— международный стандарт ISO 9985:1996 — Transliteration of Armenian characters into Latin characters.В обоих этих стандартах буква Հ передаётся как h.Что касается транслитерации на кириллицу, то такой официальный стандарт мне неизвестен. Если ориентироваться на передачу через латиницу, то тогда эта буква должна передаваться по-русски как "х", а отчество вашего друга — как Харолдович. К сожалению, передача h через г устарела и в современных рекомендациях не поддерживается. Французское h в начале имени не произносится и не передаётся вообще. Это, к сожалению, всё, что я могу сообщить на эту тему. Но думаю, что если вашему другу не нравится передача его отчества, то ему следует обратиться с заявлением в орган, выдающий документ, о замене на другой документ с тем написанием, которое его устраивает, и обосновать это, например, другими, уже выданными ранее документами. В России, например, это возможно при подаче заявления на загранпаспорт.
Вопросы и ответы |
Транслитерация армянских имён собственных
Просмотров: 525 |
Дата: 09.07.2025
| Рейтинг: 0.0/0
| Комментарии (0)
Здравствуйте, Дмитрий Иванович!
Помогите пожалуйста разрешить мой спор. Как правильно транслитерируется фамилия Conceição?
Я считаю, что фамилия идёт от географического наименования и правильно писать Консейсан. В соответствии с практической Португальско-русская практической транскрипцией.
Мне доказывают, что для фамилии "особые" правила и тут надо писать Консейсау.
Так как фамилия достаточно распространена, то есть её различные написания. Сейчас чаще можно встретить Консейсау, хотя совсем недавно писали и говорили Консейсао.
Д.И. ЕРМОЛОВИЧ:Сергей, в области португальско-русской практической транскрипции ведётся много споров по отдельным вопросам, но я не считаю последовательной «логику», согласно которой топонимы и фамилии якобы следует передавать по разным правилам. Несмотря на обилие неверных «традиционных» написаний ИС, содержащих буквосочетание ão, всё-таки корректным, согласно большинству источников, является вариант ан (или ян после lh, nh). Так что в этом споре я на Вашей стороне и считаю предпочтительным вариант Консейсан.
Попутно хотел бы прокомментировать одно заявление, которое мне встретилось в статье «Португальско-русская практическая транскрипция» в так называемой энциклопеции «Руниверсалис». Анонимный автор утверждает там, что
«Справочники Ермоловича (2001[21] и 2016[22]) выпущены на средства автора и не имеют академических рецензий».
Хочется спросить автора: откуда такие сведения? Может, автору этих слов дали ознакомиться с договорами между мной и издателями моих книг? Разумеется, нет — это выдумка человека, которому захотелось, видимо, меня как-то уязвить. Я не стал бы уделять внимания этому фантазёру, но для тех, кого он мог ввести в заблуждение, сообщу, что мои книги 2001 («Имена собственные на стыке языков и культур») и, кстати, 2005 года («Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи», которая в статье вообще почему-то не упоминается) выпущены издательством «Р. Валент», а справочник 2016 года («Правила практической транскрипции имён и названий с 29 языков...») — издательством «Аудитория», во всех случаях на средства издателей. Все эти книги содержат один и тот же свод правил практической транскрипции, который дополнялся и уточнялся с каждым последующим изданием, причём монография 2005 года имела научную рецензию д-ра филол. наук В.Н. Комиссарова и была рекомендована к изданию и использованию Учебно-методическим объединением по образованию в области лингвистики Министерства образования и науки РФ.
Вопросы и ответы |
Фамилия Conceição
Просмотров: 553 |
Дата: 07.05.2025
| Рейтинг: 0.0/0
| Комментарии (0)
ПОИСК ПО САЙТУ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||